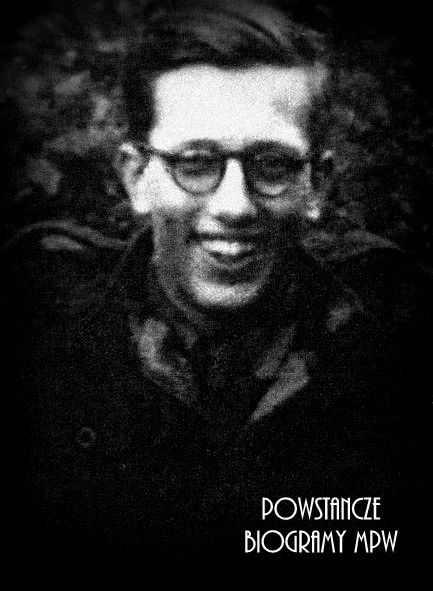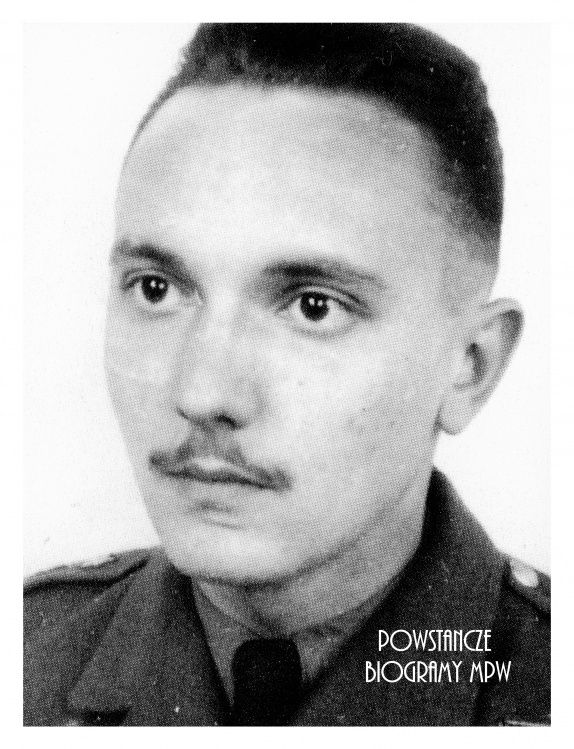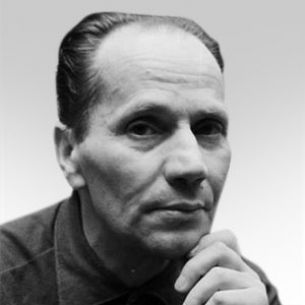Война всегда организует мир по-новому. Свергает правительства, изменяет законы, чертит ландшафты, выжигая и снося то, что считает ненужным, а еще наделяет неожиданными ролями людей, предметы и здания. Художники и юристы добираются на фронт на такси и становятся солдатами, мебель превращается в элементы баррикад, простыни помогают остановить кровотечение у жертв налетов, в школах устраиваются военные склады и госпитали, а в церковных башнях — наблюдательные пункты.
Такая судьба ожидала летом 1944 года и колокольню гарнизонного костела в варшавском Старом городе, прямо рядом с площадью Красиньских. Старый город, который еще называют Старувкой — одно из самых древних мест Варшавы. Его история уходит глубоко в прошлое — вплоть до XIII века. Когда 1 августа 1944 года в столице оккупированной Польши вспыхнуло восстание против немцев, этот район стал символом героического порыва. На небольшом клочке земли отряды повстанцев в течение месяца отражали атаки врага, превосходившего их силой во много раз. Историческая часть города в ужасающем темпе превращалась в море развалин.
 Варшава. Источник: Национальный цифровой архив Польши
Варшава. Источник: Национальный цифровой архив ПольшиВсе это начиная с середины августа наблюдал с западной башни гарнизонного костела Яцек Томашевский, известный под подпольным псевдонимом «Яцек с башни». Ему как талантливому рисовальщику командование обороны Старувки поручило выполнять наброски, на которые он, на основании своих наблюдений, должен был наносить позиции неприятеля. Вместе со своим связным он сначала поднимался по ступенькам восточной башни, затем шел по переходу над главным нефом храма, а потом взбирался по лестнице на самый верх западной башни. Он вспоминал, что вид из четырех круглых окон был великолепным. Целыми днями Яцек сидел там и рисовал — всего он выполнил почти сто набросков.
С течением времени ландшафт становился все более однообразным. Ведь старинных особняков и стрельчатых костелов становилось все меньше, а руин и дыма, сквозь которые было трудно разглядеть самые дальние уголки округи, все прибавлялось.
Колокольне долго удавалось избежать попадания бомбы или артиллерийского снаряда. Но в конце концов этот момент все-таки наступил. Томашевский со связным спускались с башни и были уже почти в самом низу, когда по костелу ударил артиллерийский залп. Спустя годы «Яцек с башни» вспоминал:
Я прекрасно знал, что, если они начнут стрелять по костелу — а они, в общем, могли стрелять по многим точкам, — то у меня есть секунда времени, чтобы спрыгнуть. Как только я услышал, что снаряды подлетают к костелу, то примерно с трех метров прыгнул вниз. Отскочил, и буквально в тот момент, когда я был в воздухе, произошел взрыв. Колокол не упал, но упал этот несчастный. Это был зажигательный снаряд, угодивший в верхушку сооружения. Башня загорелась, он был страшно обожжен, но не погиб на месте».
Связной умер через несколько часов. Он еще успел отдать Томашевскому письмо для матери. Однако тот не сумел передать его по назначению — женщина тоже погибла при налете. Не сохранились и эскизы «Яцека с Башни». Все они сгорели. Как и Старувка.
Подвальная жизнь
Однако прежде чем район покрылся выжженными руинами, под которыми лежали сотни трупов, Старый город пережил и радостные мгновения. Когда 1 августа начались бои, именно Старувка стала одним из немногих мест Варшавы, откуда удалось вытеснить немцев.
В первые дни людей охватил небывалый энтузиазм. Они радовались тому, что оккупация — время страха, неуверенности, бессилия — подошла к концу. Отныне должно было становиться всё лучше. Однако в первую очередь следовало отомстить врагу, который все последние годы убивал поляков и заточал их в лагеря и тюрьмы.
С появлением повстанцев на улицах и площадях люди хватались за любую подвернувшуюся работу, которая могла бы приблизить победу.
Дочь знаменитого писателя Стефана Жеромского отмечала в своем дневнике:
Мы все выбегаем из дому. Через четверть часа строительство уже организовано, работа справедливо распределена. Баррикада растет. Трудно об этом говорить, но это и есть то воодушевление, эти улыбки всех работающих.
Подобные сцены мы находим во многих воспоминаниях.
На Рыночной площади [Старого города], несмотря на ночь и проливной дождь, царило оживленное движение. Срывались немецкие надписи, дома впервые за столько лет украшались флагами. Мужчины и женщины перетаскивали всевозможный инвентарь. Лопатами и кирками вырывали тротуарные плиты и булыжник. На углу [улицы] Свентоянской росла баррикада.
Многие пытались присоединяться к повстанческим отрядам. Однако им отказывали, объясняя, что все это не продлится долго, так что пусть лучше возвращаются по домам. В действительности же для них не хватало оружия.
 Варшава. Источник: Википедия
Варшава. Источник: ВикипедияПиковым моментом этого праздника радости и надежды стало воскресенье 6 августа, когда по улицам Старого города промаршировал военный парад в сопровождении ликующей толпы гражданского населения. Станислав Подлевский, хроникер повстанческой Варшавы, описывал, как выглядел центр города после этого марша:
Беззаботная, возбужденная толпа расходится во все стороны, переливается через узкие улочки и небольшие площади, сквозь тесные проходы баррикад, порой достигающих второго этажа, заходит в магазины, кондитерские и столовые. Повсюду видны задорные мины, залихватские жесты и смеющиеся лица. Старувку захлестнуло раздолье и свобода.
Но продлилось это состояние недолго. Всего несколько дней спустя радостная толпа сменилась испуганными беглецами из другого городского района, Воли — его немцы атаковали уже в первую неделю Варшавского восстания, сжигая дома и убивая их жителей. Те, кому удалось избежать пуль расстрельных взводов, шли в том числе и в Старый город. Они входили в его узкие улочки, а затем искали укрытия в костелах и в подвалах домов. Их приход был первым предвестием трагической судьбы района.
 Варшава. Источник: Национальный цифровой архив Польши
Варшава. Источник: Национальный цифровой архив ПольшиВторым стало прибытие повстанческих отрядов, которые, будучи вытеснены немцами после тяжелых боев на Воле, нашли здесь кратковременную передышку. Но лишь кратковременную.
К середине августа Старувка была окружена. Оставались две возможности для бегства: либо проскользнуть ночью через немецкие позиции, что удалось немногим, либо выйти по канализации, под землей, что тоже создавало угрозу для жизни.
Передвижение по этим туннелям было связано с риском того, что беглецов обнаружат немцы и забросают их гранатами или отравят газами. Можно было и просто утонуть в воде и иле, покрывавшем дно.
Решившие остаться в осажденном районе обрекали себя на почти непрерывный артиллерийский обстрел и налеты, которые вынуждали людей оставаться в подвалах. Мирон Бялошевский, писатель и поэт, переживший восстание как мирный житель, писал о «муравейнике убежища», в котором правил матриархат.
Подвальный? Пещерный? Какая разница. Множество людей. Правят матери. Сидение под землей. Прячься! Не высовывайся! Смертельная опасность. В любом случае, даже если не высовываться. И то, как со всем справиться. Хорошо, что изобрели карбид и карбидные лампы, свечи. Ну и эти содранные с кур перья, для перин. Оружие чуть лучше пещерного, но ненамного. И оружия этого немного. Для избранных. Запасы жратвы. Притом, что они сокращались, вплоть до исчезновения.
Со временем в подвалах начинало не хватать всего. Еды, воды, света, воздуха и терпения — как по отношению к восстанию, так и друг к другу. Вспыхивавшие пожары, которые невозможно было погасить, приводили к тому, что сидеть в подвалах становилось еще труднее. Нагревавшиеся от пламени дома, даже если не горели сами, напоминали печи, в которых температура достигала сорока и больше градусов. К этому добавлялся пепел от того, что уже было поглощено огнем. Пепел, покрывавший все и всех, забивавший глаза и дыхание, оседавший на остатках продовольствия.
 Послевоенная Варшава. Источник: Национальный цифровой архив Польши
Послевоенная Варшава. Источник: Национальный цифровой архив ПольшиНо пребывание в укрытиях несло с собой еще одну, смертельную опасность — завалы. Сыпавшиеся на Старувку снаряды и бомбы не давали ни минуты покоя. Люди осознавали, что в любой момент они могут оказаться под руинами.
Некоторые научились распознавать, ударит ли очередной снаряд в их дом или полетит куда-то дальше, но это умение помогало спастись немногим. Большинство даже не успевало среагировать.
Не было дня, чтобы какой-нибудь дом не рухнул, погребая под собой целые семьи.
Повстанец Лешек Ян Вуйцицкий (псевдоним «Лешек») так вспоминал один из таких случаев:
Когда мы дошли до [улицы] Новомейской, то уже застали там спасательную команду, работавшую в руинах дома теток в поисках людей, которых, видимо, засыпало в подвалах. От всего здания осталась лишь дымящаяся груда развалин, торчащие тут и там балки и погнутые решетки железных дверей или окон. Сквозь дыру в стенке фундамента видны чьи-то ноги, придавленные балками перекрытия. Нетерпеливые руки спасателей быстро отбрасывают обломки, расширяют отверстие. Один из пожарных проползает в темный подвальный проем. Однако тут же вылезает назад. Как раз вовремя: секундой позже груда обломков дрогнула и осыпалась ближе к отверстию, вновь завалив его.
Итак, прятаться было опасно, но еще страшнее было выходить на улицы — или, скорее, на то место, где они когда-то были. На поверхности приходилось опасаться не только артиллерии и самолетов, но еще и гранатометов, и пулеметов. Воздух Старого города кишел пулями, снарядами и бомбами всевозможных калибров, которыми ежедневно убивало по нескольку десятков, если не по нескольку сот человек. Старувка, как отмечал Вуйцицкий, постепенно «становится одной большой братской могилой».
Госпиталь мертвых
Но и в этой могиле люди пытались жить — и выжить. Руководство повстанцев вскоре начало создавать структуры, необходимые для спасения как можно большего количества людей. Ключевую роль в этом сыграли госпитали и санитарные пункты, которые в какой-то момент располагались почти на каждой улице. Их персонал, несмотря на ухудшавшиеся условия, делал все, чтобы сохранить жизни раненых и больных.
Вот, например, как санитарка Даниэла Хаусман («Дася») вспоминала то, что увидела 13 августа в коридоре, ведущем к перевязочному пункту:
Перед нашими глазами предстало невероятное зрелище. Большая группа людей в рваной одежде, некоторые без рубах, курток или брюк, окровавленные. Что произошло? В танке взорвалась бомба. Мы перевязали раненых, и всех нас, патрульных, тут же вызвали с носилками на улицу к [другим] раненым. Со всех сторон стоны. Боже, кого перевязывать первым? Раненые, оторванные ноги, руки и множество трупов, лежавших один на другом. Трудно было найти свободный проход для носилок.
До конца дня они переносили убитых для захоронения, а выживших — на территорию госпиталя. Надеялись, что сумеют им помочь. Однако, как рассказывала «Дася», многих раненых и больных, не только 13 августа, но и до конца месяца, до последних дней обороны Старого города, спасти не удавалось. Не хватало буквально всего. Прежде всего — персонала, ряды которого к тому же постоянно редели: немцам было неважно, размещается ли в здании, которое они бомбят, госпиталь. Иногда они даже специально атаковали именно эти объекты.
Врачи, медсестры и санитарки, которым удавалось выжить, из последних сил проводили операции. Однако часто у них не было необходимых инструментов, перевязочных и анестезирующих средств, лекарств и даже воды, чтобы смочить больному губы.
Со временем положение становилось все более драматичным. Вот что писал в своем рапорте Стефан Старнавский («Тарло»), врач, руководивший санитарными вопросами в Старом городе:
В последнее время стало не хватать лекарств, противостолбнячной сыворотки, хирургических инструментов, не хватало перевязочных материалов, поэтому мы использовали имевшиеся рулоны полотна и бязи.
 Попадание снаряда в здание отеля Prudential. Варшава, 28 августа 1944 года. Фото: Сильвестр Браун
Попадание снаряда в здание отеля Prudential. Варшава, 28 августа 1944 года. Фото: Сильвестр БраунОн также писал о большом числе раненых: в конце августа, перед самой капитуляцией, оно достигло более 6000 человек — солдат и гражданских лиц.
Все это приводило к тому, что госпитали превратились в места умирания, из которых убегал каждый, у кого оставались силы. По рассказам Вуйцицкого, после того, как ему в голову попал осколок, командир отправил его на лечение, однако вначале для него долго не могли найти свободного места. Все было заполнено. Наконец, нашли госпиталь, где его могли бы разместить. Но то, что он там увидел, заставило его отказаться оставаться там.
Раненых множество. В палатах крики, стоны, блестящие от лихорадки глаза, окровавленные бинты, гниющие раны. Живые лежат рядом с умирающими. Между рядами живых остывают тела тех, кто уже сдался в этом последнем, самом главном бою за существование.
В конце концов, лечение он прошел на квартире у своих теток, в одном из старых жилых домов. В том самом, который несколько дней спустя будет лежать в руинах.
Две процессии
Находясь в тылу фронта, Вуйцицкий имел возможность наблюдать, как выглядела повседневная жизнь повстанческой Старувки — не военная, а гражданская. В среду 23 августа он вместе с тетками обедал у родни. Для военных условий обед был невероятно роскошным — суп из мясных консервов, да еще соленые огурцы, а на десерт — клубничный компот из банки. Наслаждаться едой мешали бесконечные бомбардировки.
Где-то по соседству шарахнула одна бомба, вторая. Смотрим друг на друга, не предложит ли кто-нибудь пойти в убежище. Но нет, никто не вынашивает намерения покинуть стол. Компот просто объеденье! Немного пыли и штукатурки, упавшей с потолка рядом со столом — это мелочь.
Однако не всем так везло. Несмотря на то, что в первые дни августа Старувка получила хорошее снабжение, ближе к концу ее обороны многие уже голодали или в лучшем случае питались небольшими порциями, которые не могли удовлетворить даже основных потребностей. Мирон Бялошевский писал, что 1 сентября мать его друга — они вместе прятались в одном из подвалов — сообщила, что им больше нечего есть. Лишь позже оказалось, что еще хватает запасов, чтобы испечь на трех кирпичах несколько лепешек.
Не меньшей проблемой была недоступность проточной, а по сути — какой бы то ни было воды. Люди целыми днями кружили с ведерками по улицам и дворам в поисках источника.
Вода требовалась не только для питья. Нужно было тушить пожары, готовить что-то горячее, промывать раны. О мытье уже в принципе никто не думал. Возможность избавиться от грязи стала недостижимой роскошью.
Такой же роскошью было и место для могилы. Во многих воспоминаниях мы встречаем рассказы о том, как кто-то не без риска выкопал яму для кого-то близкого, может быть, для друга или подруги из отряда, а когда приходил с телом, то могила уже была занята останками кого-то другого. Старый город с одной стороны был покрыт руинами, а с другой — могилами. Это вновь метко описал Лешек Ян Вуйцицкий:
Вечерами, в сумерках, за окном моей комнаты слышен стук тачек и тележек, везущих убитых для погребения. Со стороны госпиталей длинные процессии серых фигур тихо, словно тени с носилками, движутся к насыпи старинных крепостных стен, к скверикам, к мягкой земле, где лопата сможет копать. На носилках лежат тела павших повстанцев на пути к месту вечного упокоения. Они идут без траурных лент, без гробов, покрытых черной тканью, без фанфар и погребальных маршей.
В августе и сентябре 1944 года варшавский Старый город стал сценой, где царили руины и могилы, и в то же время там разыгрывался спектакль двух процессий — смерти и жизни. В одной шествовали, чтобы похоронить мертвых, в другой — чтобы добыть немного воды. Когда люди проскальзывали вдоль стен — как можно быстрее, чтобы не попасть под налет и бомбы, — на какой-то момент речь не шла ни о борьбе за свободу, ни о мести ненавистному врагу. Речь шла просто о воде.
Перевод Сергея Лукина