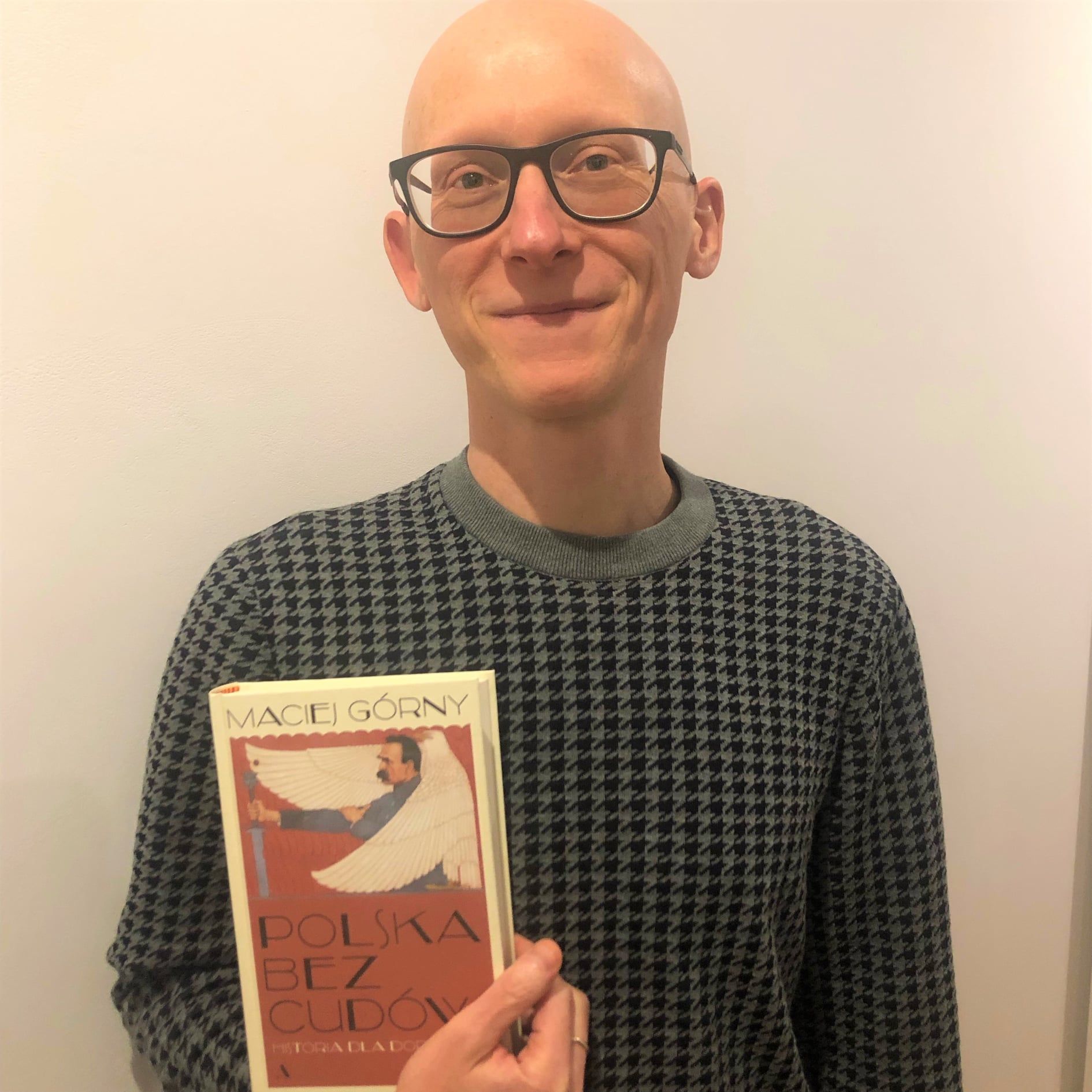 Мацей Гурный. Источник: пресс-материалы
Мацей Гурный. Источник: пресс-материалыМатеуш Циммерман: История для взрослых — что это значит?
Мацей Гурный: Объясню это на примере из Чехии.
МЦ: Из Чехии? Минуточку, в названии книги написано «Польша без чудес»…
МГ: Каждая из тем, затронутых мной в этой книге, имеет не только локальное измерение. Если принять во внимание более широкий, центральноевропейский контекст, то польские дела тоже могут выглядеть несколько иначе, нежели мы привыкли считать. Борьба за границы или экономические вызовы, стоящие перед вновь возникшим государством, — это ведь было свойственно отнюдь не только Польше, такие процессы происходили во всем регионе.
В XIX веке в Чехии велся так называемый Спор о рукописях, считавшихся тогда памятниками чешской письменности XIII столетия. Группа историков-позитивистов и языковедов пришла к выводу, что это фальшивки.
МЦ: И так оно и было?
МГ: Да, но Спор о рукописях был важным вопросом идентификации, и эти исследователи услышали в ответ, что их выводы — недопустимая атака на «священное наследие» чешского народа. Историк и эссеист Ярослав Голль написал тогда короткий полемический текст. Его главным тезизом было следующее: история — это не детская сказка. Она обычно не заканчивается ни убийством дракона, ни чудесным пробуждением принцессы, ни еще чем-либо столь же симпатичным.
Взрослые люди, а следовательно и взрослое общество, заслуживают того, чтобы разговаривать с ними об истории, не сводя ее к басне с моралью. Что потом сделает с этим слушатель — не имею представления. Как историк я в первую очередь должен сделать так, чтобы он смог что-то узнать.
МЦ: Разве это не очевидно?
МГ: Эта книга появилась, в частности, в результате моего сопротивления тому, как в Польше формируется историческая память. Это делается путем перемещения акцентов в сторону эмоций, которые данное повествование должно пробудить в адресатах. Я не считаю, что моя задача состоит в генерировании и сохранении чувств. Да, мы можем подружиться с нашим собственным прошлым — однако сперва мы должны подойти к нему реалистично.
Например: «18-я решающая битва в мировой истории» — эту фразу на тему Варшавской битвы мы слышим в августе каждый год. Вот только до сих пор никто всерьез не поинтересовался автором этих слов и не задался вопросом, должен ли он служить для нас авторитетом.
МЦ: К лорду д’Абернону мы еще вернемся. В своей книге вы сосредотачиваетесь на годах, «соседствующих» с обретением польской независимости. Однако я не могу избавиться от впечатления, что это истории с современным ключом. Это так или нет?
МГ: Действительно, в «Польше без чудес» есть близкие нам темы, как, например, спор о символичных датах. Но я писал не затем, чтобы отыскать в истории эпизоды, которые будут что-то говорить о современной Польше. Если у кого-то это вызывает актуальные ассоциации, могу лишь сказать, что это не моя вина!
МЦ: Но вы же используете аналогии с текущими событиями. Это рискованно, ведь в Польше сопоставлениями «история-современность» размахивают направо и налево.
МГ: Проводить аналогии полезно, если мы делаем это осторожно и с добрыми намерениями. У каждой эпохи свой набор правил и культурных отсылок. Нужно вникать в них так, чтобы не упустить этот контекст. Иногда просто приходится сослаться на современную общественную или политическую жизнь, ведь иначе мы вообще не будем способны приступить к давним темам, открыть для себя двери в них.
МЦ: Ну, вот пример, который можно счесть спорным: сопоставление большевизма и гендера.
МГ: Я ассоциирую эти понятия друг с другом, потому что они использовались — каждое в свою эпоху — в роли удобного обвинения, которое, по сути, было пустым. «Пустое» означает еще и «емкое», и именно это существенно для тех, кто пользуется такими понятиями.
Об угрозе большевизма в 1919-1920 годах можно было прочитать в большинстве европейских газет. Чехов обвиняли в большевизме их соседи, в Венгрии во время белого террора обвиняли в большевизме всех подряд, а немецкие газеты пугали польским большевизмом, который якобы угрожал Европе. Если какой-либо термин столь часто появляется в публичной сфере, то ясно, что он по большей части служит «страшилкой для детей».
МЦ: Иногда мне кажется, что в этой книге вы как будто вертите в руках т.н. громкие слова, чтобы лучше разглядеть их значение.
МГ: Я сберегаю в себе фазу бесконечных вопросов. Есть такой этап в развитии ребенка, для взрослых он бывает обременительным, но одновременно и полезным — ведь он напоминает им, как объяснять разные вещи и явления простым языком. Объяснять — это значит делать так, чтобы что-то стало понятным, а не определять «неизвестное через неизвестное», заменяя одно слово-отмычку другим.
МЦ: Попробуем на примере: слово «мир».
МГ: Первая наша мысль: это такое состояние, в котором два государства, или даже больше, не воюют друг с другом. Их армии не стреляют одна в другую. В то же время, такая ситуация не обязательно означает безопасность или стабильность для людей, живущих на пограничье этих двух государств. С их точки зрения, мир — это нечто иное, нежели отсутствие войны. Мир — это уверенность, что сегодня или завтра никто не промарширует через твою деревню с оружием и не попытается насиловать или грабить.
Другое слово, бросающее нам вызов, — «свобода». Оно обретает смысл лишь тогда, когда мы окружаем его дополнительными вопросами: чья свобода? от чего? свобода делать что? Без таких объяснений само слово ничего нам не скажет. Или «нация» — если бы мы в 1918 году попытались определить, кто же является поляком, это было бы невероятно трудной задачей.
МЦ: Важная часть этой книги касается польско-большевистской войны, или, скорее, ее устоявшегося образа.
МГ: Нужно ясно сказать: большевистская Россия была реальной угрозой для польской государственности. Поражение в этой войне означало бы, что, видимо, потребовалось бы эвакуировать польское правительство. Границы страны были бы урезаны, а в худшем случае Польша вновь исчезла бы с карты. Хотя, с другой стороны, не исключено и такое, что в какой-то момент произошла бы интервенция западных держав, которая остановила бы большевиков.
МЦ: Так что же должно выглядеть реалистичнее?
МГ: Хотя бы та роль, в которой выступало польское государство. Оно не было рыцарем, который шел навстречу опасности и защищал от нее будущее христианства, Запада и европейской цивилизации. Мы смотрим на ту Польшу как на бастион западной цивилизации, противостоящий радикально иной и чуждой стихии. Но если обратиться к тогдашней европейской прессе, это выглядит отнюдь не очевидной перспективой.
МЦ: В этот момент не один читатель оскорбится: как же так? Ведь «через труп Белой Польши вел путь к всемирному пожару» и т.д. цитата из выступления Михаила Тухачевского во время наступления на Варшаву в июле 1920 года
МГ: Дело в том, что если Красная армия и хотела в самом деле нести революцию на запад, то летом 1920 года на это уже не было шансов.
Впрочем, для западных дипломатов та Россия была не «красным драконом», а еще одним субъектом, которого следовало принимать в расчет во внешней политике. С Запада Центрально-Восточную Европу видели просто как регион неустойчивых границ, в котором множество сторон борется между собой и все обвиняют друг друга в большевизме. Польские дипломаты тоже инструментально использовали этот жупел, пугая западных союзников картиной революции в Польше!
МЦ: Как это?
МГ: Когда они оговаривали со своими западными коллегами поставки оружия и снаряжения, то грозили, например, что если польские солдаты не получат продовольственных пайков от французов, то они взбунтуются и в Польше будет революция. Иными словами, речь шла не о страхе перед большевизмом, уж по крайней мере, не только о нем — скорее, просто об опасении социального бунта.
МЦ: Мы собирались вспомнить о знаменитой цитате из лорда д’Абернона.
МГ: Эта фраза о «18-й важнейшей битве» повторяется сегодня в Польше с таким благоговением, как будто ее отчеканил какой-то великий знаток вооруженных конфликтов или знаменитый дипломат. Тем временем, лорд д’Абернон вовсе не был значительной фигурой в политике того периода. Перед самым отъездом в Польшу с межсоюзнической миссией он руководил в Великобритании необыкновенно «престижной» комиссией, занимавшейся предписаниями относительно потребления алкоголя. Потом, занимая должность британского посла в Германии, был сторонником политики умиротворения.
Короче говоря, никакой он был не авторитет и не поборник польского дела. Из-за одной его цитаты — а точнее, названия небольшой книжонки его авторства — мы сделали из д’Абернона крупную фигуру.
МЦ: Вы обращаете внимание на относительно малый масштаб боев во время советско-польской войны.
МГ: Кстати, среди прочего именно благодаря масштабу мы можем увидеть, что это вовсе не были битвы титанов, спасающие мир. Речь не идет об эпохальном столкновении великих армий.
До самого киевского похода эта война выглядела так, что польские и большевистские части, относительно небольшие, гонялись друг за другом по огромным пустым просторам. Обычно они перемещались поездами, поэтому стычки происходили главным образом вдоль железнодорожных путей, а трофеями становились вагоны, локомотивы и станции. Вокруг же была враждебная «пампа», где хозяйничали партизаны, «зеленые» и крестьянские банды.
Польское общество тоже не проявляло особой охоты идти бить большевика. Для тех времен более репрезентативной картинкой был босой крестьянин, искавший любого удобного случая, чтобы дезертировать из армии, а не рыцарь, защищавший Европу.
МЦ: Историки об этом не знают?
МГ: Давно знают, этого никто не скрывает. Это не какие-то сенсационные открытия, к которым приходится пробираться, кропотливо работая в архивах. Проблема состоит не в знании фактов, а в том, что из фактов не делаются реалистичные выводы.
МЦ: Так из чего соткана история о Варшавской битве как памятной, символичной баталии?
МГ: Такие истории всегда готовы заранее.
МЦ: Как это?
МГ: Помните «Властелина колец»? Весь этот мир был соткан из средневековых источников. Толкиеновская битва на Пеленнорских полях в определенном смысле «воспроизводила» рассказ о битве на Каталаунских полях, а королю Теодену приписана роль Теодориха. В свою очередь, сам город Минас Тирит был скопирован с описаний Иерусалима.
Интересные вещи можно узнать из новых направлений в исследованиях, касающихся т. н. культуры поражения — то есть, в частности, того, как сообщества справляются с прорабатыванием поражений или травм. Пример: американский Юг, штаты которого во время Гражданской войны принадлежали к Конфедерации. Если коротко, из этих исследований следует, что рассказы о триумфах и поражениях «въезжают» в колеи уже существующих нарративов.
Иначе говоря: еще до того, как 300 спартанцев полягут под Фермопилами, у поэтов уже есть наготове метафоры и сравнения, чтобы это описать. История о Варшавской битве как эпохальном событии отсылала к не столь давней битве на Марне, когда французская армия героическим усилием остановила немцев, шедших на Париж. И здесь, и там мы имеем дело с универсальной фигурой грозного врага, который наступает на столицу с востока.
МЦ: К тому же мы смотрим на эту войну сквозь фильтр будущей мощи СССР, благодаря чему большевистская Россия 1920 года кажется более могущественной, чем в действительности.
МГ: Я бы посмотрел на это еще шире. Впоследствии историки обсуждали эту войну так, словно ее вели два сформированных и устоявшихся государства: Польша в качестве Давида и имперский большевистский Голиаф. Эта картина далека от истины. Следовало бы говорить, скорее, о столкновении государств in statu nascendi, в состоянии зарождения (лат.) то есть неустойчивых образований, которым даже угрожал внутренний переворот. И при этом их было не два, а больше.
МЦ: Здесь, как я понимаю, мы следуем за немецким историком Йохеном Бёлером, поместившим польско-большевистские столкновения в контекст «европейской гражданской войны»?
МГ: Не только Бёлер, но и, к примеру, Роберт Герварт описывают эту войну как многосторонний конфликт. Даже если на данной территории наиболее многочисленными были войска именно двух сторон, то участников почти всегда было больше. Они вступали в более или менее долговечные альянсы против других акторов, приобретали самостоятельность различными способами, например, деревни становились республиками, а в Беларуси создавалась еврейская самооборона, потому что никто другой не защищал евреев от насилия.
Все это складывалось в одну большую волну насилия, которая с разной интенсивностью вздымалась в различных областях Центрально-Восточной Европы. Я вернусь к тому, о чем уже говорил: для тысяч жителей этих территорий не имело значения, какая армия марширует через деревню и кто с кем воюет. Это было третьестепенным, приоритетом было выживание.
МЦ: С каким актуальным примерам это можно сравнить?
МГ: Скорее всего, с Ираком или Афганистаном, то есть с чем-то, что в политологии называется low-intensity conflict. конфликт низкой интенсивности (англ.) Обратим внимание и на Сирию, где конфликт происходит между более, чем двумя ясно определенными силами.
Тот, кто в конце концов выигрывает хаотичную войну такого рода и создает либо захватывает государственные структуры, обретает еще и символическую власть. Например, возможность издавать учебники истории, которые втискивают эту войну в рамки повествования о рождении или спасении государства.
Вначале, конечно, нужно кое-что тут и там подшлифовать или подтереть — и такую вот картину порой наследуют будущие поколения. Нам кажется, что события, происходившие лет сто тому назад, были какой-то упорядоченной последовательностью, закономерным результатом которой стала, к примеру, независимость Польши.
МЦ: А разве это не так?
МГ: Нет. Бёлер и Герварт деконструируют это представление. Они показывают хаос, который скрывался за этим на самом деле. О том же говорит Томас Балкелис, написавший книгу о польско-литовской «грязной войне» 1918-22 годов.
Да, это делает историю более сложной и запутанной. Но это я и называю реалистичным подходом к ней. Нечто иное представляет собой принцип, что если действительность «не дотягивает» до повествования, созданного о ней, то тем хуже для действительности.
МЦ: Бёлер утверждает, что «чудом на Висле» стала не столько военная победа, сколько сам факт выживания польского государства, несмотря на все конфликты, которые сотрясали его в первые годы независимости.
МГ: Я согласен с самой рефлексией, однако понятие «чуда» принимаю лишь в качестве риторического приема. Во-первых, отличительная черта чуда — это неповторимость; так что если нечто повторяется в нескольких странах региона в одно и то же время, то речь едва ли идет о чем-то сверхъестественном и неповторимом.
Во-вторых, в Польше в период большевистского нашествия не произошло никакого чудесного поворота событий. Не было ни примирения главных политических сил, ни сглаживания социальных различий, никто с радостью не вступал в армию. Зато огромную роль сыграли общественные и государственные структуры — часто существовавшие еще во время Первой мировой войны, — которые не допускали, например, чтобы в польских городах люди умирали от голода.
МЦ: Когда вы рассматриваете польский «момент независимости» столетней давности — какой из факторов в этой истории, по вашему мнению, явно переоценен, а какой, наоборот, подчеркивается недостаточно?
МГ: Мы переоцениваем великие и символические события и личностей. Этим я не хочу преуменьшить значение, скажем, Пилсудского или того факта, что на мирной конференции в Париже у Польши был свой делегат и дипломатические тылы, которые могли ее представлять. То, что в составе польской армии были кадры, вышедшие из Легионов, Польские легионы — польские формирования австро-венгерской армии, принимавшие участие в Первой мировой войне, на основе которых затем была создана регулярная армия самостоятельной Польши — Войско Польское. тоже было существенно. В то же время, нужно признать, что в течение длительных периодов этой эпопеи с независимостью существование Легионов или деятельность Дмовского Роман Дмовский — польский политик и публицист, один из основателей и главный идеолог Национально-демократической партии Польши (эндеции). в эмиграции большого значения не имели.
На вопрос, чего мы не замечаем, я отвечу вопросом, причем не вполне историческим: что такое, собственно говоря, государство? Дипломатия и вооруженные силы немаловажны, но этого недостаточно для того, чтобы действовала вся структура.
МЦ: И что же еще было необходимо?
МГ: Толстый слой самоуправления и гражданского общества. Он начал формироваться не вместе с обретением независимости, а гораздо раньше. Эта самоорганизация зачастую не имела никакого политического обозначения, а еще она часто развивалась в кругах, связанных с эндецией. Я подчеркиваю это, потому что даже сейчас люди рефлекторно ассоциируют понятие гражданского общества с либералами, а ведь сегодня примером такой самоорганизации может служить, скажем, Семья «Радио Мария». Сообщество слушателей и единомышленников крупнейшей в Польше католической радиостанции «Радио Мария».
Всевозможные гражданские комитеты, возникавшие в Царстве Польском, образовывали самоуправление, которого эти земли не видели с разгрома Январского восстания. Весь этот «третий сектор» принял на свои плечи социальную политику — вначале под властью царской России, которая самоустранилась от этих задач, а затем уже в независимом государстве.
Мы сейчас сидим в кафе. Пьем кофе — что означает, что есть электроэнергия и газ, то есть работает электростанция и газовая станция. Вы смогли приехать сюда трамваем, а я смог выйти из дому, потому что социальное страхование позволяет нам с женой разделить опеку над ребенком. Также действуют, худо-бедно, поликлиники и больницы. Суть нашей повседневной жизни в государстве — это доступ к определенным цивилизационным достижениям и стандартам. Вот что я имею в виду, когда говорю, что государство — это не только мужчины во власти и мужчины с оружием.
МЦ: Полагаю, пол вы упомянули неслучайно.
МГ: Конечно. В истории польского «момента независимости» есть пробел, который лишь теперь постепенно заполняется. Мы много говорили о хаосе того времени. Так вот в его упорядочении огромную роль сыграли женщины.
Вся социальная политика, в том числе кухни для бедных или поддержка безработных, которых в бывшем российском разделе было множество, — все это легло на плечи женщин, кстати, нередко исповедовавших консервативные или правые взгляды. Стоит упомянуть и о большом разочаровании польских женщин, которое наступило позже: они добились для себя избирательных прав, но с реализацией этих прав на практике дело обстояло значительно хуже.
МЦ: Мы знаем об этом все больше, но по-прежнему слишком мало. Почему?
МГ: Потому что мужчины во власти и мужчины с оружием оставили после себя множество воспоминаний и автобиографий. Это они попадали на плакаты, монументы и банкноты — не женщины. Изложение истории исключительно сквозь призму «государственных мужей», этих великих и символических фигур, нередко отдаляет нас от ее понимания.
Кстати, обратим внимание на то, что в формуле «завоевание независимости» кроется ловушка.
МЦ: Какая?
МГ: Независимость Польши осуществилась в 1918 году не потому, что наши вооруженные силы выиграли войну у той или иной державы и изгнали ее с польских земель. Она осуществилась, потому что имперские державы развалились. А это означало — я уже в который раз употребляю это слово, но оно важно — хаос.
Потребовались усилия десятков тысяч людей, чтобы сдержать и упорядочить этот хаос. Так что свои заслуги были и у тех, кто сражался за границы, и у тех, кто создавал конкретные учреждения, почту, школу или пенсионную систему. Эти достижения не становятся менее реальными лишь потому, что достигнуты не на поле битвы. Забывать о людях, стоявших за ними, — историческая несправедливость.
Кроме того, так мы отсекаем себя от собственных корней. Ведь большинству из нас легче было бы обнаружить в семейных воспоминаниях как раз такие фигуры — малых «муравьев», а не т. н. государственных мужей. А может быть, как раз все эти будничные герои заслуживают большего места в нашей истории по сравнению с министрами или генералами?
Перевод Сергея Лукина
Интервью было опубликовано 5 июня 2022 года на портале Onet.







